История одной эмиграции: между городами и беженскими лагерями, между своими идентичностями, между уязвимостями и привилегиями

Почти три года мы с женой и ребенком не в Беларуси. Почти год назад мы запросили политическое убежище и продолжаем ждать решения.
Почти год мы существуем в пространстве «между»: между городами и беженскими лагерями, между своими идентичностями, между уязвимостями и привилегиями, между бюрократическими кругами. Между людьми и их историями. Как поплавок между волнами…

В системе международной защиты, как и во многих сторонах жизни, есть «теория» и «практика» гуманизма. В теории система создана таким образом, чтобы предоставлять защиту людям в ситуации опасности жизни, свободе или здоровью. Номинально это исключает возможность экономической миграции, ведь для нее существуют более «простые» способы легализации, связанные с оценкой нашей полезности и конкурентоспособности на зарубежном рынке. Словом, бог капитализма все усмотрел.
Изнутри система международной защиты кажется мне похожей на сцену из фильма ужасов, когда героиня спускается в подвал и под грудами старых коробок внезапно обнаруживает люк в полу. Т.е. ты открываешь дверь с мыслью о том, что это цокольный этаж твоей жизни, и обнаруживаешь внизу десятки загадочных этажей зазеркалья, которые живут по своим собственным правилам и законам. То, что раньше было твоей уязвимостью, в этом странном теневом мире может стать валютой. То, что составляло предмет твоей гордости или просто было значимой частью идентичности, может исчезнуть, обесцениться или стать источником постоянного стресса. Вся шелуха фантазий про то, что ты достаточно хороший человек, слетает как с арахиса, когда понимаешь, что больнее всего тебе прощаться не с родиной или паспортом, а с привычными привилегиями.
«Уборщица это хорошая работа для тебя» - уверенно говорит мне К.
К. - пожилая прихожанка костела из соседней деревни. В свои годы она выглядит потрясающе живой и сильной. Я невольно думаю о том, что в моей стране женщины после семидесяти выглядят и разговаривают совсем иначе. Мы пришли на встречу, организованную церковной общиной для семей беженцев, и в рамках смолтока К. спрашивает меня про профессию. В моей стране у меня была научная степень, но после короткого этапа преподавания я почти 10 лет работала в гражданском секторе. «Это не профессия», - уверенно говорит К., - «а ведь кто не работает, тот не ест». Мне кажется, я видела достаточно опровержений этой житейской мудрости, но у меня не поворачивается язык сказать это человеку, который платит налоги в стране, где моего ребенка кормят бесплатно. Мне также сложно объяснить, почему эти слова унижают меня и обесценивают мою «прошлую жизнь». Вообще выражение «прошлая жизнь» лучше всего описывает то, как я чувствую себя здесь и сейчас: как привидение. В детстве я очень любила фантастическую теорию о том, что благодаря кристаллической структуре некоторые природные объекты способны «записывать» и воспроизводить события прошлых лет - а ныне живущие люди будут считать эти «проекции» призраками. Вся моя жизнь сейчас записана в стенах дома, в котором меня не было уже несколько лет. Мне кажется, я все еще прокручиваю ее: в фотографиях, воспоминаниях, разговорах. Воссоздаю проекции будущего, которое никогда не случится. Я - кристаллическая решетка, а семидесятилетняя К. стоит передо мной и видит привидение.
***
Знакомые нам иерархии - те самые, что связаны с расой, классом, гендером, возрастом, физическими или ментальными ограничениями, - тоже не перестают существовать в эмиграции. Их влияние на вашу жизнь происходит параллельно с декларацией равноправия для граждан стран первого мира. В системе, где у тебя больше нет паспорта, вообще очень остро начинаешь чувствовать разницу между положением гражданина - и целым спектром юридических состояний с ограничением в правах. Уязвимости выстраиваются в иерархии, нарастают на «знакомой с детства» патриархатной системе, словно полипы на затонувших кораблях.
***
В лагере наша идентичность вызывала у части людей брезгливость, а у части - зависть. Перевернутая пропагандистская идея «гейропы» - святая убежденность местных авантюристов в том, что сытый западный капитализм благоволит «извращенцам», а значит, в глазах некоторых соседей мы имеем некий загадочный «иммунитет» против «страшных слов на Д»: дублин* (1) и депортация. Мне бы не помешала хоть толика этой уверенности, хотя стоит признать - это была первая ситуация в моей жизни, когда гетеросексуальные люди считали мою идентичность «привилегированной». «Ну что ты у них спрашиваешь про адвоката, девочки тут по другой теме, у них такой проблемы нет». После переезда в общежитие этот волшебный флер «счастливчиков» рассеется - местные жители из восточного блока решат, что мы с партнеркой «тюремные жены», и так и не поверят нашим объяснениям про гражданский сектор. Ну еще бы, «у нее же татуировки».
***
Вопреки моим ожиданиям политические разговоры в лагере для беженцев удивительно наивны. В такие моменты я стараюсь сдать свое политическое тело в аренду себе-исследовательнице.
***
Молодой уборщик заводит со мной каноничный смолток из учебника по немецкому - спрашивает, откуда я приехала. В свое время его семья также получила в Германии статус международной защиты.
Название моей страны наводит его на рассуждения о войне в Украине - мужчина уверен, что, передавая Киеву вооружения, европейские страны «спонсируют войну». «Политики должны договориться с Россией», авторитетно кивает он. Я спрашиваю его, знаком ли он с историей второй мировой войны, и знает ли про договоры, заключенные с фашистской Германией до 40-х годов, или про оккупацию Польши в 39-ом? Его предсказуемое неведение справедливо, ведь я тоже не знаю историю его родины. Не знаю, когда и почему там началась война и какие страны были спонсорами вооружений. Не знаю, как погибли его предки и как его семья относится к его жизни в Западной Европе. Я думаю о том, как живых людей веками разобщали и отделяли друг от друга колониальные политики. А еще о том, что современная система беженства, через которую прошел этот мужчина, и через которую сегодня прохожу я, строится на концепции гуманизма, рожденной европейским просвещением. Тем же самым, которое породило идею национального государства, капитализма и сделало колониальное западное мышление эталоном человеческой цивилизации.
Кстати, по данным Шведского международного института исследований мира только в нулевых годах моя страна заработала полтора миллиарда долларов на продаже оружия в страны Африки. И мое легковесное и наивное «незнание» о том, что с большой долей вероятности чиновники Лукашенко годами продавали автоматы людям, от которых бежала семья этого парня, равно как и мое образование, благодаря которому я чувствую наивность в его рассуждениях о России - это тоже колониальные привилегии. Есть что-то от истории про кота Шредингера в том, чтобы одновременно существовать в символическом пространстве постколониальной травмы и привилегий белого мира.
***
Невозможно создать единый портрет человека, который просит убежища в странах ЕС. Жертвы, авантюристы, идеалисты, травматики, романтики, капо* (2), люди, которые приняли решение о подаче на беженство не из точки осведомленного согласия, люди, чья способность принимать осознанные решения может быть поставлена под сомнение, люди, у которых не было выбора и люди, которые сознательно выбирают быть именно здесь. Люди. Esse homo. Передо мной проплывает море человеческих историй. Я пропускаю их через себя, как волны, становлюсь их частью - так же, как они становятся частью меня. Корпускулярно-волновая, дуальная природа этого опыта одновременно завораживает и угнетает.
***

С. родилась в Казахстане, она уйгурка* (3). До того, как оказаться в Германии, они с детьми провели более 4 лет в другой стране Евросоюза. Когда мы встречаемся с ней впервые, она очень сопереживает беларусским протестам. «У нас тоже было это. И мой муж больше не вернулся». С. делает большие глаза на слове «это» и понижает голос, когда говорит о муже. «Они забрали его». Негласное правило бойцовского клуба - не уточнять и не спрашивать ничего о «прошлой жизни». Только поверхностный разговор про «здесь и сейчас», ведь никогда не знаешь, что конкретно может стать для человека триггером.
Мы с С. ходим вместе к ее адвокатам - я перевожу. Я не случайно пишу «адвокатам» - С. записывается на десятки консультаций, на которые не приходит из-за ментального состояния, и после записывается туда же снова - с телефонов детей. Я не понимаю, в чем заключается смысл этих рокировок, но это не мое дело. Мое дело - доступный перевод. В моем коммуникативном пузыре из прошлой жизни я считала себя «неговорящей по-английски», мой разговорный уровень, скорее всего, не дотянет до B1. Но наша комната в лагере - единственная на этаже, где взрослые говорят по-английски.
Согласно Дублинскому протоколу, кейс С. должна рассматривать другая страна - та самая, откуда они приехали в Германию, и которая уже дала им три отказа. Сегодня мы идем на встречу с очередным адвокатом. Мы шагаем по утреннему серому городу, и С. вдруг рассказывает мне, что на момент первого миграционного интервью ее сыну было всего 14 лет. Я пытаюсь представить, что испытывает в этой ситуации чужой ребенок, и мне сразу хочется побежать обратно к себе в комнату, чтобы обнять своего. Я малодушно радуюсь тому, что его теплое, розовое ото сна тельце юридически пока является продолжением моего взрослого тела. В этот момент все сложности, связанные с тем, что из двух матерей права на него имеет только одна из нас, кажутся мне маленькими и преодолимыми. Сейчас сыну С. почти 18, и адвокат готовит ее к мысли о раздельной депортации: после совершеннолетия решения по его статусу и срокам пребывания будут приниматься отдельно от матери. Для европейских систем безопасности, которые базируются на колониальной идее гуманизма, его гендер, этничность и вероисповедание являются проблемой.
На обратном пути С. спрашивает меня о процедуре церковного убежища* (4) и о том, что такое протестантизм. «Они, значит, как мы - это? Тоже протестовали?» Я рассказываю ей о догмате безгрешности папы римского и реформации.
В следующий раз я пойду к адвокату вместе с дочерью С. Ее мама с сестрой уехали в больницу - у девочки подтвержденное документально ментальное заболевание. Бумажка о диагнозе - почти заветная, ведь она защищает от депортации двух членов семьи сразу. «Вам нужно решить, кто будет опекуном сестры - вы или мама. Этот человек сможет остаться» - объясняет девушке адвокат. Я думаю о том, как, должно быть, страшно принимать такие решения, когда тебе 19… В ее возрасте я могла себе позволить бояться совсем других вещей: камин-аута перед родителями или экзаменов. Я также думаю о том, какая больная ирония - в том, что истории побега из авторитарных государств часто называют историями «ради безопасности детей».
В последний раз, когда я слышала о С., мне рассказали, что они с семьей получили церковное убежище. Я так и не узнала настоящее имя С. - только его русифицированный, «понятный нам» вариант, колониальное наследие СССР.
***
При поступлении в распределительный лагерь для беженцев нужно пройти карантин. В темноте (мы приехали ночью) охранник провел нас через серию заградительных сеток в металлический вагончик. «Не бойся, это только до завтра». Внутри - две двухъярусные кровати с грязным матрасом, пакеты с едой и два стула. Нервное напряжение целого дня вырывается хохотом, когда моя партнерка спрашивает у меня, на каком из двух стульев я буду сидеть.
Утром ужасно красивая женщина в форме охраны забирает нас на пцр тест. «Золотая голова, - говорит она удивленно, трогая волосы нашего ребенка, - у твоего ребенка - золотая голова». Я рассказываю ей про русского поэта Есенина, «золотую голову» Айседоры Дункан* (5).
После выхода из карантинной зоны нас отправляют на прививку от кори. Рядом с нами в очереди - несколько молодых мужчин из России и парень-беларус. Россияне весело спрашивают его, есть ли в Беларуси мобилизация. Смеются: «скоро будет».
***
После карантина мы живем в лагерном блоке сразу с двумя семьями из Беларуси. Оказалось, что расширение русскоязычного пространства автоматически означает расширение патриархатной повестки. Сосед учит ребенка здороваться за руку «по-мужски». Вечером одна соседка приходит выяснять у второй, поняла ли та, что мы лесбиянки, и откуда у нас взялся ребенок. Всю следующую неделю я ежедневно повторяю взрослому мужчине, что наш ребенок «не девочка»: «я просто забыл». К концу недели я понимаю, что таким странным образом он буллит нашего сына, потому что не может сказать нам прямо о своей гомофобии. В поле начинают циркулировать истории про то, что детей из семей беженцев «здесь забирают и передают на воспитание ЛГБТ парам».
О переезде в другой лагерь нам сообщают за полчаса до автобуса. Какая-то часть меня выдыхает с облегчением.
***
Наши новые соседи - с Кубы. Молодой парень и его партнерка, очень красивая трансгендерная девушка. Когда она заходит в общую столовую, полную одиноких мужчин, в помещении стоит свист и вой. Мы не ходим в столовую по той же причине. Мы сидим в комнате на восьмом этаже - и не можем надышаться тишиной после лагеря барачного типа. В этом помещении бегает и кричит только наш ребенок, и после комнаты на 16 человек это звучит почти как «домашний уют».
На восьмом этаже идеальный вай-фай и идеальный утренний свет для фото - «тик-ток хаус для беженцев». По утрам, пока все спят, я долго лежу в кровати и смотрю на новенького пластмассового единорога, которого ребенок оставил на подоконнике. Лежать в кровати, иметь матрас, знать, что никто не постучит тебе в дверь - огромная привилегия. В коридоре встречаю уборщицу - молодую женщину из Украины. Она предупреждает меня быть «поаккуратнее на этаже», так как мы «с ребенком, а тут этаж для этих, для голубых». Отвечаю, что «я из этих».
Вечером на общем балконе плачет молодой мужчина из Узбекистана. В своей «прошлой жизни» он переводчик с французского. Сегодня ему прислали перевод в очень маленькую деревню на краю «нигде», и кажется, он оплакивает свои надежды на восстановление в профессии. Он прожил в лагере почти три года - ошибка системы, его просто потеряли. В кинематографически красивом закатном свете уборщица молча подставляет ему плечо – сквозь стекло я вижу их темные обнявшиеся силуэты.
Ночью общежитие эвакуируется из-за пожарной тревоги. Мы бежим по лестнице со спящим ребенком на руках. Рядом бегут плачущий мужчина, кубинская красотка и парни, которые свистят ей вслед, уже знакомая нам семья гомофобов из Беларуси (интересно, сложно ли им было переехать в общежитие с этажом «для этих»)... Я смотрю в черное зимнее небо под вой пожарных машин и думаю об Иммануиле Канте. «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благословением, тем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, - звездное небо надо мной и моральный закон во мне" (с).
***
Н. говорит о себе «цыганочка», а обо мне «русская». Когда я спрашиваю у нее, знают ли они контакты организаций по защите прав рома в Беларуси, она не понимает меня сразу в нескольких языковых плоскостях. Семья Н. родом из Могилева. Это там в 2018 году МВД устраивало облавы и забирало из поселка всех мужчин, и женщины по несколько дней искали своих сыновей и мужей, забирая их синими и избитыми. Я пытаюсь найти для Н. контакты правозащитной организации рома, с которой была знакома сама: несколько лет назад мы вместе выступали на встрече правозащитников и чиновников из министерства иностранных дел. Узнаю, что организация исчезла - люди, которые ее основали, занялись другими проектами. Надо ли говорить, что это были гаджо* (6).
Однажды я рассказала Н. о том, как после института полгода работала в фирме по продаже корейской косметики, и в сердцах назвала бывшего босса мошенником (ведь он просил нас писать липовые отзывы про БАДы и шампуни). «Я поняла тебя, - сказала Н., - у нас тоже девочки так ходили: кто-то косметику продает, а кто-то кастрюли пенсионерам. А потом квартиры обносят». Я словно вижу наяву, как по полу коммунальной кухни между нами проползает экзистенциальная трещина - несмотря на сильную стигматизацию ЛГБТ людей я даже не представляю, каково это - родиться и вырасти в настолько маргинализированном сообществе, где нарушение закона превращается в ожидаемую социальную норму. Люди из культуры Н. и беларуские социальные институции – это параллельные прямые в неевклидовой геометрии. Игнорируя друг друга, они пересекаются в точке обесценивания и дегуманизации. «У министра нет ни причин, ни повода просить прощения у цыган. Понятно?»* (7).
Иногда наш быт напоминает потлач* (8). «У государства это одно, а у бабушек, дедушек воровать - это большой грех», - говорит Н. Я с удивлением замечаю, что в нынешней безумной реальности «отмененных» законов эта женщина, возможно, чувствует диспозицию государства и народа ярче, чем люди, которые примеряют на себя государственные регалии в политической эмиграции. Понятия о собственности, государстве и законах в семье Н. мне кажутся чем-то средним между детской картиной мира и бытовым анархизмом. Ее понимание гуманизма - в запахах кухни, стакане горячего чая после слез, в ночном мытье общих коридоров - «не могу, когда грязно». Ее быт состоит из риска и безвозмездного шеринга ресурсов, а мой - соседский - в принятии чужого опыта без морализаторства и в том, чтобы оставлять этические противоречия за своей дверью. Второе правило клуба - делись своей едой. Третье правило - никогда не спрашивай, откуда она.
***

На интервью в отделе миграции гослужащий зачитывает мне правозащитный доклад по Беларуси, чтобы подчеркнуть, что Беларусь безопасная страна для ЛГБТК, «просто гетеронормативная». Ирония в том, что текст для этого доклада в 2016 году писала я сама. В том году мне как ЛГБТ активистке было очень важно, чтобы на нашей стране не ставили крест в плане демократических изменений. Если бы в 2016-ом мне кто-то сказал, что через 6 лет моя организация перестанет существовать, а моя активистская работа станет невидимой даже для бывших коллег, я бы не поверила.
Перед интервью молодая активистка из местной ЛГБТ организации подготавливает нас к вопросам об интимной жизни. На интервью их не задают, и она скучает - не понимает, как связаны все эти провластные активисты и «губопики»* (9) с нашей лесбийской идентичностью. Я тоже не понимаю: в моем активистском риск-менеджменте никогда не было слов про «госпереворот», но это почему-то не сработало как оберег против разгрома правозащитного сектора. Оказалось, что «быть активисткой, но не быть правозащитницей» в дискурсе авторитарной власти невозможно. Интервью тянется очень долго, когда мы выходим из здания, на улице темно и холодно - мне невольно вспоминаются моменты из детства: мне пять лет, Лукашенко еще не президент, и зимним вечером мама забирает меня домой из детского сада. Небо над моей детской головой полно звезд, под ногами скрипит снег. Я перекладываю всю ответственность за этот тяжелый день со своих плеч. Я маленькая и легкая.
На выходе из отдела миграции стоит очень пьяный мужчина. Он идет за нами по скрипучему снегу и кричит кому-то невидимому по-русски: «какого х…я я здесь делаю?!». Возможно, он тоже выпал сюда прямо из хрустальной картинки моего детства.
***
К. из Беларуси, но мы почти не успели поговорить. В кухню заходит смурной мужик в семейных трусах и бросает ей отрывистое «быстро в комнату». Это муж К.
В августе 2020 года он “пропал” на одном из эпичных минских маршей, а после отсидки попытался оспорить приговор. Теперь они с семьей - беженцы. А еще муж К., кажется, бытовой абьюзер… Я понимаю, что не кажется, когда в прачечной К. начинает плакать, а муж при свидетелях угрожает ударить ее по лицу.
Я наблюдаю за тем, как он методично вписывается в конфликты с половиной общежития, жалуется, кричит на чужих детей и брезгует общими пространствами, потому что они мультикультурные. Несколько раз у нас случаются глупые конфликты на бытовой почве: К. с мужем пытаются убедить меня в том, что степень загрязнения кухни связана с цветом кожи. Я прошу прекратить транслировать расистский бред. В ответ они с К. перестают с нами здороваться. Несколько месяцев мои соседи живут в состоянии «осады». Контакты с «внешним миром» запрещены, люки задраены.
Тогда я вдруг понимаю, что поведение мужа К. - не «склочность характера». И даже не осознанная ксенофобия - по крайней мере, не только она. Психопативное поведение, повышенная возбудимость и агрессивность, нарушения сна, головные боли, мышечное напряжение, постоянное чувство настороженности, враждебность и недоверие к окружающим, невозможность сближения, избегание разговора о травмирующих событиях, обвинения окружающих и гиперболизация страхов - все это симптомы посттравматического расстройства, с которым мои соотечественники выходят из тюрем.
***
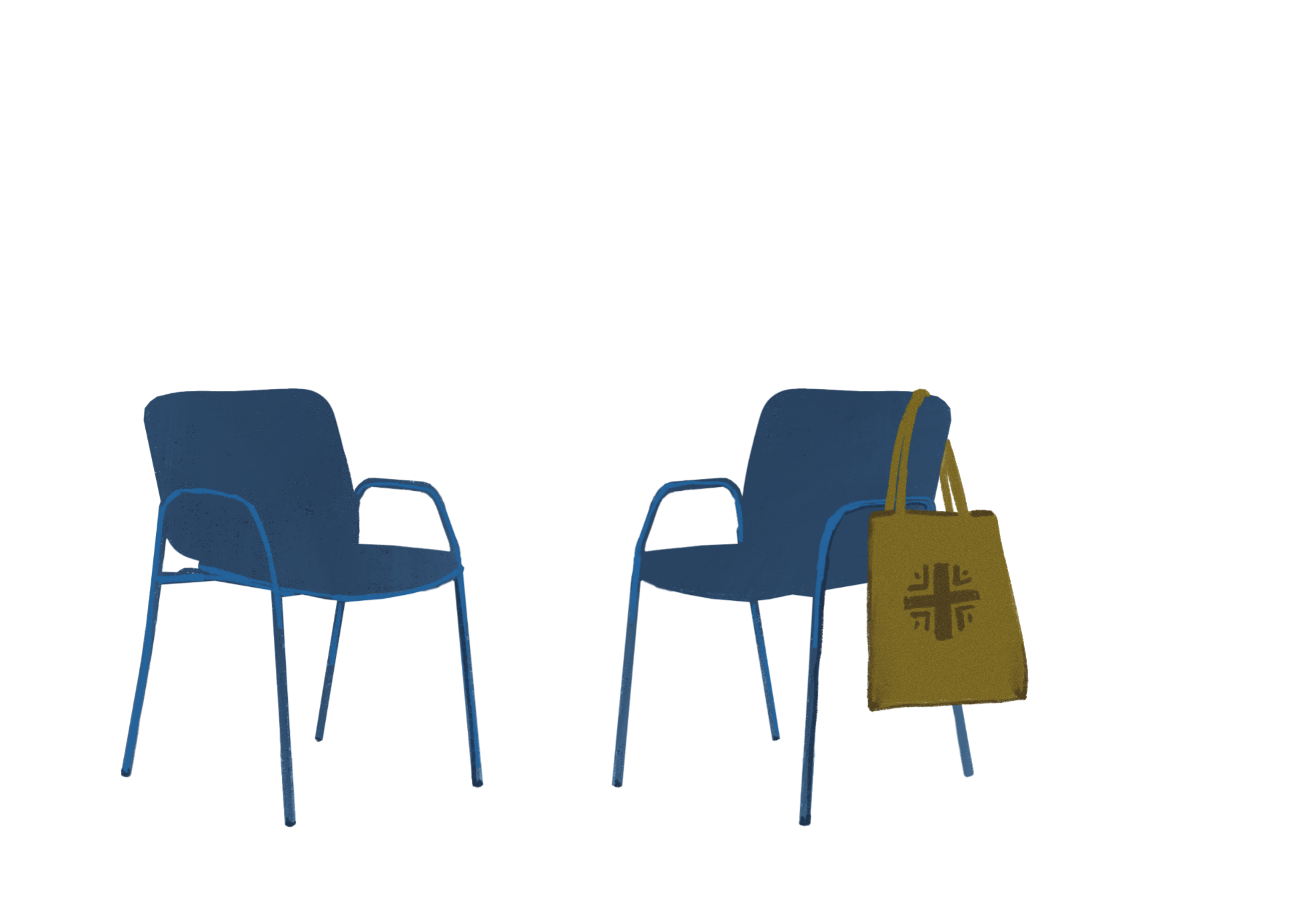
Сегодня в общежитии «женский круг» - активистки из местной НКО пришли рассказать нам о контрацепции. Тренерка достает плюшевую матку и рассказывает о том, как происходит овуляция. Я вспоминаю, как в 2018 году я была приглашенной тьюторкой на тренинге ЮНФПА по секспросвету для подростков. На тренинг я приехала после третьей провальной попытки забеременеть с помощью ВРТ* (10), и с тех пор мероприятия, на которых показывают «как должна работать матка каждой женщины», кажутся мне зоной пониженной эмпатии.
На кругу я единственная, кто нуждается в переводе на английский, поэтому мне очень подробно рассказывают про все доступные виды гормональных спиралей. Я отвечаю, что лесбиянка. Тренерка хохочет и переключается на новую тему: спрашивает у женщин на кругу, кто из них проходил на родине процедуру женского обрезания и какую. Молодая женщина несмело поднимает руку. Тренерка продолжает круг вопросом о том, больно ли ей мочиться. Я решаю, что со своими предыдущими представлениями о неэмпатичности я просто «свит саммер чайлд».
На перерыве местная волонтерка преследует Н.: «у тебя слишком много детей, тебе нужно слушать очень внимательно». Н. демонстративно приходит на встречу в платке и уходит, когда речь заходит о контрацепции. Взаимная пикировка ценностных систем могла бы выглядеть смешно, если бы они находились в равных позициях, но это не так.
Здесь как никогда раньше я вижу, что в сфере социальной работы очень важно изучать теорию пересечения дискриминаций. Это единственная возможность осознать активистскую позицию не только как помогающую, но и как властную. Беда даже не в том, что без этой рефлексии мы не сможем отслеживать собственное выгорание. Беда в том, что государственная сфера заботы в эпоху капитализма на самом деле является частью дегуманзирующей машинерии. Наши тела - по ту и эту сторону линии демаркации - должны быть полезны, удобны и нормальны. Лишая людей субъектности и самоуважения, мы можем «причинять им добро», взращивая собственное эго. Так работает колониальный дискурс гуманности. Так работаем мы сами - и превращаемся в «робототела» безличной системы власти.
Ведущая женского круга просит ответить, чувствуем ли мы себя здесь безопаснее. М., моя соседка из Эритреи, рассказывает о том, что ей намного безопаснее здесь, чем в Италии, куда они с ребенком прибыли в лодке. Ее просят сравнить уровень безопасности со страной происхождения. М. плачет. На кругу нет салфеток - это был формальный вопрос, на который ожидается формальный ответ о равноправии. В этом вопросе не было места рассказам об изнасилованиях детей или уличной стрельбе. Рассказы повисают в воздухе, как брызги волн...